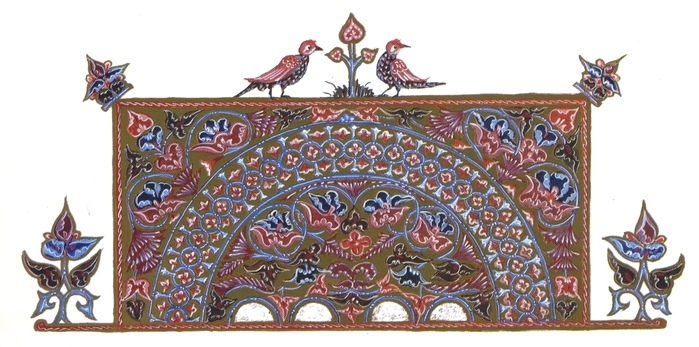БЕСПОПОВСКАЯ ЕРЕСЬ И ТЕОРИЯ КЕНЕФОРМИЗМА[1]
В результате раскола в 17-м веке, гонений со стороны новообрядческого еретического сообщества и поддерживающей обновленчество государственной власти, староверы остались без епископов: единственный архиерей, устоявший в истине, епископ Павел Коломенский был репрессирован и убит сторонниками патриарха Никона. Рукополагать новых священнослужителей стало некому. Число клириков дораскольного поставления постепенно таяло, как в результате гонений от еретиков, так и по причинам естественной убыли. Уходили из жизни и священнослужители-новообрядцы дораскольного поставления, которые потенциально могли бы пополнить клир староверов в случае перехода к нам. Неизбежно встал вопрос: что делать? Откуда брать священников, можно ли принимать в сущем сане переходящих к нам священников (а в перспективе и епископов), получивших хиротонию в расколе, еретическом сообществе никониан?
Часть староверов разрешила этот вопрос положительно, им преемствует наша Древлеправославная Церковь. Другая часть, увы, пошла противоположным путем и образовала еретическое сообщество беспоповцев.
Против этого заблуждения опубликовано много прекрасных работ, и приведены правильные аргументы. Однако, по мнению автора статьи, развитие событий в истории Церкви, полнота информации, доступ к которой мы сейчас имеем, позволяют рассмотреть вопрос глубже, решить проблему в самом ее корне, устранить или хотя бы обезвредить (для тех, кто захочет услышать) первопричину ереси, на которую до сих пор не обращалось должного внимания.
В истории Вселенской Церкви наблюдается достаточное количество прецедентов, когда ошибочные суждения в течение значительного времени (иногда на протяжении веков) могут существовать и быть терпимыми на уровне частных мнений, даже высказываться и содержаться некоторыми Святыми Отцами или Поместными Церквами. Например, мнение святителя Григория Нисского о конечности вечных мук (апокатастисе), анафематствованное впоследствии Пятым Вселенским Собором; западное, Римской Церкви, учение о «филиокве» (исхождении, происхождении Святаго Духа как Ипостаси не только от Бога Отца, но и от Сына), которое терпелось Восточной Церковью с 6-го по 11-й век, до «великого раскола» в 1054 году, после которого было осуждено. Можно, при желании найти и другие примеры. Такого рода ошибочные суждения могут терпеться на уровне частных мнений до тех пор, пока из-за них не нарушается серьезно мир в Церкви, и не происходят масштабные соборные разделения, то есть пока они не начинают приносить серьезный вред. Тогда соборный разум вынужден реагировать и высказываться по поводу этих, некогда «частных мнений», определенно, квалифицируя их окончательно как ересь и отвергая их. При этом Святые Отцы, которые придерживались данных мнений до их соборного осуждения, прощаются и порицанию не подвергаются.
Но что делать, если в древности по какому-либо вопросу существовали в Церкви разные мнения и они пришли к решающему столкновению, как правильно определить истину? Необходимые критерии изложены преп. Викентием Леринским в его труде «О вероизложениях вообще, или об общем характере православной догматики»[2]. Необходимо исследовать, не было ли по этому вопросу соборных решений, ибо соборные решения ставятся выше мнений частных, хотя бы последние принадлежали и Святым Отцам. Из соборных решений – предпочитается собор более высокого уровня, так, например, Вселенский Собор авторитетнее поместного. Если нет четкой опоры в решениях соборов, то надлежит смотреть какого мнения придерживалось большинство древней Церкви или большинство единой Церкви до момента возникновения разделения. И так мы определим истину, которой должно следовать и нам.
Теперь возвращаемся к предмету нашего анализа. По мнению автора статьи, коренное заблуждение и причина беспоповства кроется в абсолютизации частного мнения Киприана и Фирмилиана из 1-го правила Василия Великого о безблагодатности, недействительности таинств у раскольников: «…Итак, от начала бывшим отцам угодно было крещение еретиков совершенно отвергать, крещение раскольников, как ещё не чуждых Церкви, принимать, а принадлежащих к самочинным сборищам, после того как они исправятся через должное покаяние и обращение, вновь присоединять к Церкви. Поэтому часто тех священнослужителей, которые последовали за еретиками, принимали в том же самом чине, после того как те покаялись… Кафары относятся к раскольникам. Однако древние, т. е. Киприан и наш Фирмилиан, рассудили вынести одно решение обо всех них, будь то кафары, энкратиты, гидропарастаты и апотактики. Ибо, хотя началом их отделения послужил раскол, но отделившиеся от Церкви уже не имели на себе благодати Духа Святого, ведь преподаяние её прекратилось из-за того, что пресеклось преемство. Первые отступившие получили хиротонию от отцов и через возложение их рук имели дар духовный, но поскольку они отделились, то сделались мирянами и уже не имели власти ни крестить, ни рукополагать и не могли передать другим благодать Духа Святого, от которой сами отпали. Поэтому отцы повелели тех, которые приняли от них крещение, как крещенных мирянами, очищать истинным крещением Церкви, если они к ней приходят».
Здесь сделаем небольшое отступление, которое окажется полезным в дальнейшем. Преп. Феодор Студит в письме к Навкратию разъясняет, что в апостольских правилах (46-е и 47-е) и в 1-м правиле Василия Великого под именем еретиков, от которых нельзя принимать крещение, имеются в виду «еретики в собственном смысле слова», то есть те, кто крестит не во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А в последующих постановлениях Поместных и Вселенских Соборов под именем еретиков разумеются и «еретики не в собственном смысле слова», то есть крестящие во имя Отца и Сына и Святаго Духа, но расходящиеся с Церковью по другим вопросам вероучения, то есть, по терминологии 1-правила Василия Великого, в собственном смысле слова – раскольники, а не еретики. В дальнейшем, для удобства, мы будем по тексту статьи употреблять термин «еретик» в традиции Соборов, то есть «не в собственном смысле слова», а в общеупотребительном. Где же надо будет употребить его в собственном смысле, там будем специально это оговаривать.
Следовательно, в общеупотребительном понимании, частное мнение Киприана и Фирмилиана учит о недействительности, отсутствии таинств у раскольников, еретиков и раздорников, то есть у всех пребывающих вне Церкви Христовой.
В Восточной Церкви это мнение, так или иначе, локально-частично присутствовало с древности, и сейчас его придерживаются многие представители новообрядческих так называемых ИПЦ и тяготеющие к ним круги «ревнителей» из официального мирового новообрядческого православия. В дораскольной Западной, то есть Римской Церкви, за исключением краткого, ограниченного по числу последователей и локального эпизода со священномуч. Киприаном Карфагенским в 3-м веке (мнение которого было позже отвергнуто соборно той же Карфагенской Церковью), всегда тотально господствовало учение о действительности таинств у еретиков и раскольников, выраженное в так называемой «концепции блаж. Августина». Нужно понимать, что святой Августин не изобрел данную концепцию, а лишь традиционное учение, ему известное (принципиально отстаиваемое, например, священномучеником Стефаном, папой Римским[3], в полемике с Киприаном Карфагенским), сформулировал и разъяснил на письме более тщательно и подробно. Согласно этой концепции, таинства у раскольников и еретиков совершаются и действительны, но служат пребывающим вне Церкви не во спасение, а в осуждение. Если же раскольники и еретики покаются и обратятся к истине, то таинства начинают действовать во спасение. Такое разумение подтверждалось и широко распространенной, преобладающей с древности церковной практикой принимать кающихся еретиков без повторения над ними таинств крещения, миропомазания, священства и прочих.
Для преодоления видимого противоречия своего учения с древней церковной практикой сторонники Киприана и Фирмилиана вынуждены были прибегнуть к изобретению концепции так называемых «пустых форм». То есть все священнодействия еретиков ничтожны, безблагодатны, не действительны, представляют из себя только «пустые формы» соответствующих таинств (крещения, миропомазания, хиротонии и т.д.), которые при приеме кающихся еретиков в Церковь, через возложение рук епископских наполняются благодатью и только тогда становятся действительными. Автор статьи предлагает, для удобства, наречь эту теорию «концепцией кенеформизма», от греческого «κενές φόρμες» (то есть «пустые формы»)[4].
Очевидная опасность такого мудрования состоит в том, что если в какой-то момент, в результате гонений, не останется в мире ни одного православного епископа, то и заполнять «пустые формы» возложением рук будет некому. Епископат и таинство священства вместе с ним иссякнут, и верующие окажутся в положении беспоповцев. Как это и произошло, увы, с частью старообрядцев. Справедливости ради, можно указать на смягчающие обстоятельства для беспоповцев раннего послераскольного времени: жесточайшие гонения от еретиков и государственной власти, отсутствие полноты богословской информации о материалах Вселенских, Поместных Соборов древности, о прецедентах восстановления православного епископата в церковной истории, недостаток духовного образования и богословской эрудиции. Ныне же достаточная полнота информации у нас имеется, к ней может получить доступ всякий верующий и ищущий Божией правды человек, и посему, на наш взгляд, оправданий для упорства в кенеформистских взглядах, во всяком случае, в их крайнем, беспоповском выражении, не осталось.
Психологически понятно видимое удобство кенеформистского подхода в полемическом отношении, в противостоянии еретикам на практике, в борьбе за паству. «Безблагодатное еретическое сообщество», «причастие еретиков – пища демонов», «хлеб еретиков не есть Тело Христово», «как только введена ересь, Ангел Божий тут же отлетел от храма, и он превратился в обыкновенный дом», «еретики не имеют действительного крещения» — все таковые и им подобные выражения и некоторыми Отцами употреблялись, и сейчас, во многих случаях, хорошо, утвердительно ложатся на сердце православного христианина. Однако, во исполнение советов Священного Писания «не уклоняться ни направо, ни налево» и святоотеческого учения о «среднем царском пути», видится необходимым, в соответствии с принципами православной догматики (см. преп. Викентия Леринского), гармонизировать все эти выражения с полнотой Предания и церковной практики, выяснить их истинное значение. Подобно тому, как это сделал преп. Феодор Студит в письме к Навкратию, о чем упоминалось выше. Ибо не все выражения Отцов надо понимать «в собственном смысле» слов, их составляющих. Необходимо толковать эти слова в духе единства и согласия с Преданием всей Церкви. Ибо вера Церкви – это «то, во что верили повсюду, во что верили всегда, во что верили все». В письме к Навкратию преп. Феодор писал о том, что от еретиков в собственном смысле слова таинства не принимаются, а от еретиков не в собственном смысле принимаются. Соответственно, и выше приведенные высказывания Отцов по отношению к еретикам, крестящим не во имя Отца и Сына и Святаго Духа, понимаются в собственном смысле слова, как отсутствие таинств, действительно «пустые формы». А вот к еретикам, крестящим во имя Отца и Сына и Святаго Духа, то есть к еретикам не в собственном смысле, и слова Отцов должны пониматься не в собственном смысле. То есть таинства у них действительны, совершаются, но идут им в осуждение, так что причащающийся в еретическом сообществе не благодатью Божией исполняется, а очерняется демонической прелестной духовностью («причастие еретиков – пища демонов»); хоть и принимает Тело Христово, но плоды пожинает не такие, каковы от Тела Господня должны быть, а противоположные («хлеб еретиков не есть Тело Христово»); от храмов еретических отлетает спасительная благодать Божия, и наполняются они демонической прелестью, хотя на престолах и Тело Господне; крещение действительно онтологически, но остается бездейственным ко спасению и так далее[5].
Кратко разберем, почему теория кенеформизма должна уступить концепции блаж. Августина, а по сути концепции 6-го и 7-го Вселенских Соборов, Карфагенского Собора 419 г., да и просто говоря, традиционному православному учению об этом вопросе. Для краткости сие последнее будем именовать концепцией традиционалистов.
I. Само 1-е правило Василия Великого, на которое пытаются опереться кенеформисты, если внимательно его прочитать, свидетельствует о том, что концепция Киприана и Фирмилиана является лишь позднейшим частным мнением по отношению к до них, «от начала», бывшим древним отцам и практике этих более древних отцов противопоставляется (на это указывает словооборот «Однако»): «…Итак, от начала бывшим отцам угодно было крещение еретиков совершенно отвергать, крещение раскольников, как ещё не чуждых Церкви, принимать, а принадлежащих к самочинным сборищам, после того как они исправятся через должное покаяние и обращение, вновь присоединять к Церкви. …Кафары относятся к раскольникам. Однако, древние, т. е. Киприан и наш Фирмилиан, рассудили вынести одно решение обо всех них…» И далее, собственно, в оправдание отказа от изначальной традиции, излагается частное мнение Киприана и Фирмилиана о безблагодатности священнодействий раскольников. По принципам же православной догматики, изложенным преп. Викентием Леринским, древнему должно быть отдано предпочтение перед новшеством, и новшество Киприана и Фирмилиана должно быть отвергнуто.
II. Карфагенская Поместная Церковь (то есть родная поместная Церковь Киприана) и осуществила это соборно в 419 году в своем 68 (57)-м правиле: «Ваше единодушие купно со мною памятует определенное на предшествовавшем соборе: в малолетстве гибельно заблуждение их, но по достижении возраста, способного к размышлению, познавшие истину, и безумием их возгнушавшиеся, по древнему чину, возложением руки да приемлются в кафолическую Божию церковь, по всему миру распространенную. Нарекание прежнего заблуждения не должно быти препятствием принятию их в чин клира, когда они, приступив к вере, истинную церковь признали своею, и, в ней уверовав во Христа, приняли таинства Троицы, которые, как явно есть, все истинны и святы и божественны, и на которых утверждается все упование души, не смотря на то, что предварившая дерзость еретиков безрассудно стремилась нечто предати противное, под именем истины. Сие просто, как учит святый апостол, глаголя: един Бог, едина вера, едино крещение (Еф.4:5), и то, что единожды преподавати должно, не позволительно вновь воспринимати. Сего ради по предании анафеме имени заблуждения, возложением руки, да приемлются в едину церковь, которая, по реченному, есть голубица (Песн.2:10), единственная матерь христиан, и в которой спасительно приемлются все таинства вечные и животворящие, впрочем пребывающих в ереси подвергающие великому осуждению и казни. Что во истине светлее препровождало бы их к вечной жизни: то в заблуждении становится для них более омрачающим и осуждающим»[6]. Ясно изложена концепция блаж. Августина, что неудивительно, ибо указанное правило фактически составлено антидонатистским Карфагенским собором 411 г, активнейшим участником и интеллектуальным лидером которого был блаж. Августин. Свят. Аврилий Карфагенский, которому принадлежит сам текст правила, был личным другом и единомышленником блаж. Августина. Сие правило Карфагенского Собора, в числе прочих, утверждено VI Вселенским (Трулльским) Собором во 2-м своем правиле, как истинное и непреложное, и таким образом концепция традиционалистов о действительности таинств у еретиков обрела вселенский авторитет в каноническом отношении.
III. В истории Церкви наличествуют прецеденты, когда епископат, рукоположенный еретиками, иногда в нескольких поколениях, считался восстановившимся в православии без всякого возложения рук, без всякого чина, просто через исповедание правильной веры. Это так называемые случаи «самовосстановления епископата».
Одним из первых ярких прецедентов такого рода было принятие в общение Вторым Вселенским Собором (381 г.) Иеросалимского епископата со свят. Кирилом, епископом Иеросалимским, во главе. Прежде этого Собора весь Иерусалимский епископат и сам свят. Кирил были в церковном общении с арианами, а значит — вне церковного общения с Православной Церковью святых Афанасия Александрийского и Василия Великого. Начиная с 327 года и до самого Второго Вселенского Собора официально признававшейся государством церковью были ариане, а Православная Церковь была гонима и составляла меньшинство (за исключением краткого царствования Юлиана Отступника в 360–363 годах, который дал некоторую свободу православным ради давления на полугосударственную церковь ариан, и восьмимесячного периода царствования православного императора Иовиана в 363 году). Иеросалимский епископат во главе со свят. Кирилом был частью государственной арианской церкви, и сам свят. Кирил, как признается и в его Житии, был рукоположен арианами. Ко времени Второго Вселенского Собора в Иеросалимской Церкви сменилось уже несколько поколений епископов-ариан. Вопрос о принятии в общение епископов Иеросалимской Церкви вызвал на Втором Вселенском Соборе острую дискуссию, хотя свят. Кирил произнес перед Отцами Собора православное исповедание веры и публично отрекся от арианской ереси. Победило мнение тех, кто удовлетворился принятием православного исповедания свят. Кирилом и не требовал никаких других действий для принятия его в качестве православного епископа. Так православная иерархия в Иеросалимской Церкви была восстановлена без особого чиноприема ее со стороны Православной Церкви.
В более поздние времена подобные ситуации возникали неоднократно, но уже не вызывали споров. Так, все без исключения епископы-участники Шестого Вселенского Собора (680–681 гг.) были рукоположены монофелитами, ересь которых этот Собор осудил. Правда, на Соборе присутствовали легаты (официальные представители) православно мыслящего папы Римского Агафона, но и папа Агафон наследовал папе Гонорию (625-638 гг.), когда-то подписавшему от лица всего епископата Римской Церкви монофелитское вероисповедание, и папе Виталиану (657-672), который состоял в общении с еретическим монофелистским Константинополем. В любом случае, нигде в протоколах заседаний этого Собора, которые велись параллельно на греческом и латинском языках и сохранились до нашего времени, не упоминается о том, чтобы римские легаты имели какие-либо полномочия для совершения чиноприема над епископами-участниками Собора. Да и как это могло быть, если легаты (пресвитеры Феодор и Георгий и диакон Иоанн) сами не имели архиерейского сана? Напротив того, Деяния Шестого Вселенского Собора подают как само собой разумеющееся возвращение монофелитского епископата в Православие без всякого чиноприема — только через посредство исповедания православной веры.
Таким образом, никакого официального «принятия в Православие» бывших монофелитов никто не совершал. Они просто исповедали веру православно, и через это «приняли» сами себя; подобно им, еще раньше это сделали в Римском патриархате наследники папы Гонория и папы Виталиана.
(Продолжение следует).
________________________________________________________
ПРИМЕЧАНИЯ:
[1] Данная статья является изложением личной точки зрения ее автора.
[2] https://azbyka.ru/otechnik/Vikentij_Lirinskij/o_veroizlozheniyah/#0_1
[3] Память в нашем календаре 2 августа.
[4] Или «концепцией кениморфизма», от греческого «κενή μορφή» («пустая форма»).
[5] Автор статьи считает возможным и впредь использование подобных высказываний в пастырской практике в дидактически-полемических целях, разумея их, по Феодору Студиту, «не в собственном смысле». Например, крещение еретиков, в некоторых случаях, можно назвать недействительным в каноническом смысле, или канонически недействительным (ибо оно не может быть принятым Церковью без исправления и, таким образом, остается не довлеющим ко спасению), хотя оно действительно онтологически и т.п.
[6] https://lib.pravmir.ru/library/readbook/1322
(Из Древлеправославного календаря на 2026 год Русской Древлеправославной Церкви)